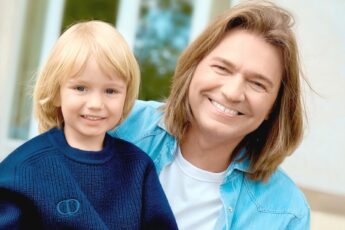— Тужься, девка, тужься, — говорила Матрёна. — Пусть маленький, да боец. Видать, в отца.
И когда сквозь пелену боли и усталости я услышала первый крик — тонкий, еле различимый, — мне показалось, что это самый прекрасный звук на свете.
Первый снег всегда застаёт врасплох. Кажется, вот только вчера кружились в воздухе последние жёлтые листья, и земля дышала прелой осенней сыростью, а наутро выглянешь в окно — всё бело кругом, чисто, свежо. И дышится иначе, и мир становится звонким, словно натянутая струна.

В такое утро я впервые переступила порог дома Анны Васильевны.
— Мама, это Варя, — сказал Василий, слегка подтолкнув меня вперёд, словно ребёнка, который не решается войти в класс.
Она стояла у печи — невысокая, но какой-то необыкновенной внутренней стати женщина. Тёмный платок повязан низко, почти на самые брови. В морщинистом, точно кора старой яблони, лице только глаза и были живые — цепкие, внимательные. Смотрела, не мигая, словно оценивала, взвешивала что-то про себя.
— Ну, здравствуй, — сказала наконец, и голос её прозвучал неожиданно низко, с хрипотцой. — Раздевайся, коли пришла.
Не «добро пожаловать», не «рада познакомиться». Просто «раздевайся, коли пришла». Словно не сноху сын привёл, а так, случайного гостя.
Я стянула платок, расстегнула пальтишко — старенькое, латаное-перелатанное. Она это точно заметила. Взгляд, оценивающий каждую мелочь, скользнул по потёртым рукавам, задержался на стоптанных сапожках. И я вдруг остро ощутила всю свою нищету, своё сиротство, беззащитность перед этой суровой женщиной в чистой опрятной избе.
— Проходи за стол, — распорядилась она. — Самовар поставлю.
Я села на краешек лавки. Василий примостился рядом, чуть касаясь плечом, как бы говоря: я с тобой, не бойся.
Но я боялась.
Послевоенной голодной весной встретились мы с ним, когда меня, молоденькую детдомовку, распределили в это село учительницей. А он фронтовик, израненный, но живой. Счастье моё невозможное, нечаянное.
«Мать строгая у меня, — говорил Василий, — но справедливая. Полюбит тебя, вот увидишь».
Теперь, глядя в спину склонившейся над самоваром Анны Васильевны, я совсем не была в этом уверена.
— Мать у меня, Варенька, — Василий словно мысли мои услышал, — войну сквозь себя пропустила. Отца на фронт проводила да схоронила, брата моего — старшего, Ивана — тоже. Одна меня и выходила, когда я с фронта вернулся — ни сесть, ни встать мочи не было. Мать моя молчит больше, чем говорит. Но отходчивая зато.
Анна Васильевна, словно услышав про себя, резко обернулась. Поставила на стол самовар, блюдце с карамельками — роскошь по тем временам невероятная, — и села напротив.
— Ну, говори, — обратилась ко мне, — откуда родом будешь?
— Из городских я, — тихо ответила, опустив глаза. — Родителей не помню. В тридцать седьмом их взяли, а меня в детдом. Я и фамилию свою не настоящую ношу — Самойлова. В детприёмнике дали, по сотруднице, которая меня привела.
— Значит, безродная, — Анна Васильевна вздохнула. — И чему ты наших детей учить будешь, коли сама не знаешь, откуда ты и что за семя твоё?
— Мама! — воскликнул Василий. — Что ты такое говоришь?
— А что такого? — она смотрела на меня в упор. — Я правду говорю, не кривлю душой. У нас люди на земле испокон веков живут. Каждый свой род помнит, каждый корнями оброс. А она перекати-поле. Сегодня здесь, завтра там.
Я вскинула голову, возмущённо сверкнула глазами:
— Не выбирала я, Анна Васильевна, кем родиться и где жить. А учить детей буду тому, что сама знаю. Грамоте, счёту, истории. Чтоб не были тёмными, чтоб жизнь лучше нашей прожили.
Она прищурилась, смерила меня взглядом:
— Шустра больно. Язычок, гляжу, подвешен. Только дело-то бабье не в языке, а в работе. В поле кидала когда стога? А корову доила? А квашню ставила?
Я покраснела и покачала головой. Действительно, откуда мне было это знать? Из книжек только.
— То-то и оно, — Анна Васильевна поджала губы. — А замуж она торопится. Мужа ей подавай.
— Не торопится она, мама, — вступился Василий. — Это я её тороплю. Люблю я её, понимаешь? Первая радость после всего этого ада.
Анна Васильевна встала, тяжело опёрлась руками о край стола:
— Ты, сынок, фронтовик, слова твоего не перейду. Жениться хочешь — женись. Только говорю тебе сразу: не мил мне этот выбор. Не нашего поля ягода. А я тебя после всего, что ты прошёл, после всех ран твоих, одна на этот свет вытащила. Кто тебе ближе — мать родная али вот это вот городское?
— Не надо так, — у Василия аж желваки на скулах заходили. — Не по-людски это.
— А что по-людски? — она хлопнула ладонью по столу. — Чужую в дом привести? Которая ни печь растопить не сможет, ни хлеб испечь? Которая дитя твоё, когда оно родится, не сумеет ни выходить по-человечески, ни научить тому, что наши бабы веками знали? У которой ни угла своего, ни рода, ни семьи?
Я встала тихо, но решительно. Одёрнула кофточку, поправила волосы:
— Спасибо вам за угощение, Анна Васильевна. Василий, проводи меня, пожалуйста.
Он вскочил, растерянно глядя то на мать, то на меня:
— Варя, не надо…
— Надо, Вася, — сказала твёрдо. — Меня в школе ждут. Завтра уроки.
Анна Васильевна молча смотрела, как я надеваю своё старенькое пальто, повязываю платок. Ни слова не сказала на прощание.
Мы шли по заснеженной улице в полном молчании. Утренний снег под ногами поскрипывал, словно жаловался.
— Ты не сердись на неё, — наконец произнёс Василий. — Она не со зла. Просто боится тебя.
— Меня? — я даже остановилась от удивления. — Чего ей меня бояться -то?
— Боится, что ты меня заберёшь. Что уедем мы в твой город, и останется она одна. А у нее после войны никого больше не осталось, кроме меня.
Я молчала, глядя на белую-белую дорогу. Понимала, что стою на пороге чего-то важного. Либо переступлю этот порог и войду в новую жизнь, которая будет трудной, но моей. Либо отступлю.
— Я никуда не уеду, Вася, — сказала наконец. — Мне незачем ехать. У меня там никого и нету. А здесь — ты. И дети в школе. И… может быть, когда-нибудь наши с тобой дети появятся.
Он обнял меня, и я почувствовала, как трудно даётся ему этот разговор. Как навалилось на него всё разом — и чувство долга перед матерью, и любовь ко мне, и такая усталость от войны, от всего пережитого.
— Дай ей время, — шепнул он, касаясь губами моих волос. — Ты ей докажешь. Своим трудом, своим терпением. Она поймёт, что ты — настоящая.
Свадьбы не было. Просто расписались в сельсовете, а вечером Василий перетащил мои скудные пожитки к себе в дом. Анна Васильевна встретила молча, показала мне угол, где отныне будет моё место, и вышла во двор, громко хлопнув дверью.
— Ничего, — шепнул Василий. — Перемелется.
Я постаралась устроиться так, чтобы не мешать, не раздражать свекровь лишний раз. Вставала раньше всех, шла в школу, возвращалась поздно, когда уроки проверю. Василий плотничал. Хорошо востребованное дело после войны было, многие избы подлатать да перестроить надо. А Анна Васильевна вела хозяйство — привычно вела.
Я старалась изо всех сил. Смотрела, как свекровь ставит тесто, как солит капусту, как чистит картошку быстро, ловко, не теряя ни кусочка. Пыталась повторить. Выходило плохо, неуклюже. Руки, привыкшие к перу и мелу, не слушались, нож выскальзывал, тесто прилипало к пальцам.
— Эх, горе луковое, — вздыхала Анна Васильевна, глядя на мои мучения. — Ну кто ж так держит-то! Вот, гляди…
И показывала. Снова и снова. Не хвалила, не подбадривала. Но и не прогоняла, не говорила: иди, мол, от греха, сама сделаю. И это уже было немало.
А однажды ночью у меня начались схватки. Раньше срока — месяца на полтора. Василия дома не было, уехал в район за досками. Я лежала, закусив угол подушки, чтобы не кричать, не тревожить свекровь.
Но она услышала. Встала, зажгла лампу, подошла к моей постели:
— Что, началось?
Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова.
— Рано ещё, — она нахмурилась. — А ну как не выживет?
И словно в ответ на её слова новая схватка прострелила меня насквозь, да так, что я не удержалась — вскрикнула.
Анна Васильевна собралась быстро. Натянула телогрейку, сунула ноги в валенки:
— Полежи, я за Матрёной сбегаю. Она бабка знатная, принимала дитя уже не раз.
Свекровь скрылась за дверью, а я осталась одна в темноте, наедине со своим страхом и болью. «Не выживет, — стучало в висках. — А ну как не выживет».
Потом всё закружилось, размылось, слилось в один бесконечный кошмар.
Матрёна с её корявыми, но удивительно ловкими руками. Запах трав, которыми она окуривала избу. И Анна Васильевна — неожиданно тихая, заботливая, словно другой человек. Она держала меня за руку, вытирала пот со лба, шептала что-то успокаивающее.
— Тужься, девка, тужься, — говорила Матрёна. — Пусть маленький, да боец. Видать, в отца.
И когда сквозь пелену боли и усталости я услышала первый крик — тонкий, еле различимый, — мне показалось, что это самый прекрасный звук на свете.
— Сыночек, — выдохнула Матрёна. — Хиленький, но живой. А ты молодец, выдюжила.
Анна Васильевна взяла на руки крохотный свёрток, осторожно развернула, вгляделась в сморщенное личико. И вдруг заплакала — так горько и безутешно, словно прорвало плотину многолетнего горя.
— Сынок… — прошептала она. — Внучек мой. Господи, дожила-дождалась.
Она сидела на краю моей постели, баюкая ребёнка, а по морщинистым щекам текли и текли слёзы.
— Иванушкой назовём, — сказала тихо. — В честь брата Васиного. Если ты не против, конечно.
Я слабо кивнула, чувствуя, как подступают собственные слёзы.
— Лежи, отдыхай, — Анна Васильевна укрыла меня одеялом. — Я с ним побуду. И молока козьего тебе принесу, чтобы твоё быстрее прибыло. А то вон он какой худенький, кормить его надо хорошо.
Она уложила младенца в колыбельку, заботливо подвешенную у моей кровати, и вышла. А я лежала, глядя на это крохотное существо, на плод моей любви к Василию, и не верила своему счастью.
Когда свекровь вернулась с кружкой тёплого молока, я решилась спросить:
— Анна Васильевна, а почему вы плакали? Когда его увидели.
Она присела рядом, помогла мне приподняться, поднесла кружку к губам:
— Пей, сил набирайся.
Я отпила глоток, другой. Ждала ответа.
— Вспомнила вдруг, — наконец сказала она. — Как сама Василия рожала. Тоже одна — муж на заработках был. И так же боялась, что не выживет дитя. И так же Матрёна принимала.
Она помолчала, глядя куда-то сквозь стену.
— Всем нам тяжело, бабам. И городским, и деревенским. Везде своя доля. Я-то думала, ты неженка, избалованная. А ты вот… выдюжила.
В уголках её глаз снова блеснули слёзы.
— Ты меня прости, Варвара. За всё, что я наговорила тогда. Не со зла я. От страха больше. Думала, отнимешь ты у меня сына, увезёшь. А теперь вижу — не такая ты. И ребёночек вот, кровь моя, внучек…
Она вдруг взяла мою руку… Неожиданно мягко, осторожно.
— Я научу тебя всему. Как пелёнки стирать, как грудью кормить правильно, чтоб трещин не было. Как от сглаза уберечь. Передам тебе всё, что сама знаю. А ты уж научишь его грамоте, когда подрастёт. Чтоб умный был, образованный.
Я кивнула, чувствуя, как что-то тёплое разливается в груди. Не молоко ещё — оно придёт позже. А что-то другое, не менее важное.
Понимание, может быть? Или прощение? Или просто женская солидарность — вечная, как этот мир, объединяющая нас всех перед лицом жизни и смерти.
Анна Васильевна встала, поправила свой неизменный тёмный платок:
— Отдыхай. Я с Иванушкой посижу.
— Спасибо, — прошептала я.
Она кивнула и вышла, тихо прикрыв за собой дверь.
А за окном снова валил снег — первый в жизни моего сына, но не последний. И это было странное чувство — знать, что я больше не одна. Что есть теперь нить, связывающая меня с этой землёй, с этим домом, с этой суровой женщиной, которая только что признала меня своей.