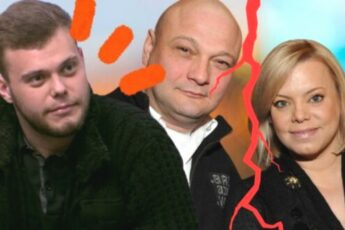«Брюхатьте дворовых девок, а я не желаю рожать мертвецов!» — успокоить княгиню не могли никакие увещевания. «Опомнитесь, душа моя, вы не можете верить этим диким суевериям», — пытался образумить жену Борис Николаевич, но красавица Зинаида навсегда захлопнула для супруга двери своей спальни.

Была ли вера в семейное проклятие Юсуповых настоящим поводом или лишь предлогом, но Зинаида Ивановна больше никогда не жила со своим мужем, каждый имел собственную жизнь, и друг другу они не мешали и не перечили, избегая семейных ссор и сохраняя иллюзию семейной жизни в свете. Впрочем, общество княгиню Юсупову не осуждало, красавицам многое прощалось, а Бориса Николаевича не понимали.
Единственный сын Николая Юсупова и Татьяны Васильевны Эндельгарт получил в честь деда имя Боренька. Младший брат его умер в младенчестве, и уже тогда говорили, что проклятие Юсуповых опять сбывается. По семейному преданию, когда первый в их роду, татарский хан Юсуф, принял православие, став Дмитрием Юсуповым, было ему видение, что за отказ от веры своих предков ляжет на весь его род проклятие — только один наследник мужского пола будет доживать до двадцати шести лет, и продолжаться это будет, пока род полностью не исчезнет.
Проклятие ли тому виной, но Юсуповы и правда теряли своих сыновей, и только один сын в каждом поколении продолжал род. Благодаря этому богатство Юсуповых не дробилось на части, и к началу XX века они превратились в богатейшую семью в Российской империи, соперничая в богатстве с европейскими монаршими фамилиями.

Но к тому моменту, когда Николай Борисович унаследовал отцовское состояние, финансовое положение Юсуповых было не лучшим. Князь Борис, увлечённый строительством имения Архангельское, коллекционированием предметов искусства, картин и драгоценных камней, оставил сыну множество долгов.
А чтобы выплатить их, князь принялся за дело, отнюдь не свойственное аристократам — он сам засел за бухгалтерские книги и обнаружил, что дела велись из рук вон плохо, управляющие обманывали отца и воровали, а доходность производств можно повысить. А ещё князь занялся ростовщичеством, что и вовсе сочли странностью и причудой. В свете это стало предметом пренебрежительных шуток.
Архангельское Борис Николаевич не любил, полагая его бессмысленной тратой денег, там не жил и постепенно продавал коллекции, а пруды сдал в аренду под рыбную ловлю. А жить предпочитал в именьи Ракитное. Пришлось вмешаться государю, император лично написал Юсупову с указом «Архангельского не опустошать», слишком великолепна была эта усадьба, чтобы стать жертвой экономии.
Князь-ростовщик, делец, скупающий шахты и заводы, занимающийся делами, словно какой-то купец, и пренебрегающий высшим обществом, конечно, это было удивительно и странно. Но Борису Николаевичу некогда было посещать собрания и маскарады, он лично объезжал имения и заводы в семнадцати губерниях, проверяя, как идут дела, а также занимаясь строительством больниц, школ и прочего.
Но самое главное, он ещё в 1830-х годах дал крепостным вольную, и поступок этот казался весьма странным и даже предосудительным. Зато князь в короткие сроки выплатил долги отца и состояние собственное преумножил, а в голодные годы Юсупов из собственных запасов кормил семьдесят тысяч крестьян.
«Вы должны знать мои мысли, что всё богатство своё я поставляю в благоденствии моих крестьян… Прозорливый помещик тогда богат, когда крестьяне в хорошем состоянии и когда они благословляют жребий свой», — из письма Бориса Николаевича Юсупова управляющему.
Можно ли назвать такого человека имеющим «ограниченный склад ума»? Именно так написал о князе Борисе Николаевиче граф Корф. Но все достижения и действия, напротив, говорят о том, что Борис Николаевич был человеком незаурядным и весьма практичным.

В двадцатичетырёхлетнем возрасте Борис Николаевич женился на княжне Прасковье Павловне Щербатовой. Брак этот был заключён по любви, и между супругами было полное взаимопонимание. Но, несмотря на молодость и здоровье молодой княгини, вот уже пять её беременностей заканчивались неудачами. Все богатства Юсупова не могли помочь женщине выносить дитя. В 1820 году вновь ждали пополнения в семействе, княгиня окружена была заботой и вниманием, вызваны лучшие медики, чтобы наблюдать и принимать роды. Но:
«Третьего дня здесь, ко всеобщему сожалению, умерла молодая Юсупова, жена так называемого Бореньки, урождённая княжна Щербатова. Неловко родила и истекла ******. Видя неминуемый себе конец, она со всеми простилась и приготовилась к переходу из сей жизни в вечную. Все её любили, и все о ней сожалеют: да и подлинно жалко!» (письмо К. Я. Булгакова).
«Как поразила меня смерть бедной Юсуповой! Кровь с молоком, молода, богата, всё не помогло! Бедная эта Юсупова не могла ни одного раза родить, бывши 4 или 5 раз брюхатою. Может быть, и подлинно виноваты были акушеры», — отвечал ему брат, А. Я. Булгаков.

Шесть лет князь Борис оставался вдовцом, но долг требовал новой женитьбы и появления на свет наследника фамилии и семейных богатств. Из всех невест, готовых упасть к ногам богатого князя, он выбрал единственную, чьи родители ему отказали.
Зинаида Ивановна Нарышкина уже в пятнадцать лет считалась одной из лучших красавиц Санкт-Петербурга. Она была не только хороша собой, но и великолепно образована, мила, тонка, прелестна. Князь Юсупов влюбился и только Зинаиду желал видеть своей супругой, Нарышкины же на сватовство ответили отказом, ссылаясь, что дочь их ещё слишком юна. Пришлось ему приложить немало усилий, чтобы в 1826 году всё же состоялось столько желанное обручение, а ещё через несколько месяцев и свадьба.

В день венчания всё словно шло наперекосяк. Жених выехал из дома, не получив благословения отца, пришлось вернуться, в церкви невеста уронила кольцо, и оно закатилось так, что найти и достать не смогли, пришлось взять другое. «Не к добру это», — шептались гости и осеняли себя крестным знамением. Зинаида была показушно весела, а Борис Николаевич задумчив и бледен.
Очень быстро супруги обнаружили, что желают разного. Муж казался Зинаиде Ивановне скучнейшим человеком, её влекли блеск и очарование общества, тогда как он предпочитал проводить время в собственном кабинете или гостиной. «В ней всё поэзия, тогда как муж её напоминает презренную прозу», — говорил о красавице Андрей Тургенев.

*

Все были в неё влюблены, и даже император Николай I ласкал супружескую чету своим вниманием, выделяя молодую княгиню.
«Высокая, тонка, с очаровательной талией, с совершенно изваянной головой, у неё красивые чёрные глаза, очень живое лицо с весёлым выражением, которое так чудесно ей подходит», — описывала Зинаиду Ивановну Юсупову Долли Фикельмон.
Свадьбу сыграли в январе, а уже в октябре Зинаида Ивановна родила сына, получившего в честь деда имя Николай. Вскоре Зинаида родила второго ребёнка, дочь Анастасию, умершую при родах. Тогда-то ей и рассказали о проклятии рода Юсуповых. Реакция молодой женщины была мгновенной. Она плакала и кричала, что не желает больше рожать мертвецов, а муж её пусть брюхатит дворовых девок. После этого княгиня закрыла для мужа двери своей спальни.
Однако жить монахиней Зинаида Ивановна не собиралась, у неё было множество романов, приписывали ей и роман с императором.
«Впоследствии, разбирая прабабкин архив, среди посланий от разных знаменитых современников нашел я письма к ней императора Николая. Характер писем сомнений не оставлял. В одной записке Николай говорит, что дарит ей царскосельский домик «Эрмитаж» и просит прожить в нем лето, чтобы им было где видеться. К записке приколота копия ответа.
Княгиня Юсупова благодарит Его Величество, но отказывается принять подарок, ибо привыкла жить у себя дома и вполне достаточна собственным именьем! А все ж купила землицы близ дворца и построила домик – в точности государев подарок. И живала там, и принимала царских особ». — из мемуаров Феликса Юсупова.
Богатая красавица была желанной добычей для многих молодых искателей выгоды и приключений. Был у Юсуповой роман с офицером Кавалергардского полка по фамилии Жевре, страсти своей княгиня не скрывала. Графиня Фикельмон писала:
«Не менее заметен и чересчур затянувшийся и всепоглощающий флирт очаровательной княгини Юсуповой с Жерве, офицером Кавалергардского полка. Она вызывает всеобщий интерес, ибо молода духом, как впрочем, и годами, веселая, наивная, невинная. С удивительным простодушием отдалась она во власть своего чувства.
Она словно не видит расставленной перед ней западни и на балах ведет себя так, будто на всем белом свете только они вдвоем с Жерве. Он очень молод, с малопривлекательным лицом, во всяком случае, незначительным, но очень сильно влюблен, постоянен в своем чувстве и, может, более ловкий, чем его считают.»
Закончился скандальный роман высылкой Жерве в экспедицию на Кавказ, где он был ранен и в результате скончался.

Но самым загадочным был роман с таинственным революционером, которому Зинаида помогла бежать из крепости и прятала у себя во дворце. Молодой человек бесследно исчез, а много лет спустя Феликс Юсупов написал:
«В 1925 году, живя в Париже в эмиграции, прочел я в газете, что при обыске наших петербургских домов большевики нашли в прабабкиной спальне потайную дверь, а за дверью – мужской скелет в саване… Потом гадал и гадал я о нем.
Может, принадлежал он тому юному революционеру, прабабкиному возлюбленному, и она, устроив ему побег, так и прятала его у себя, пока не помер? Помню, когда, очень давно, разбирался я в той спальне в прадедовых бумагах, то было мне очень не по себе, и звал я лакея, чтобы не сидеть в комнате одному».
А после смерти супруга Зинаида покинула Россию и поселилась во Франции. Влюбившись в капитана, на двадцать лет младше неё самой, уже пятидесятилетняя княгиня купила своему возлюбленному титул графа де Шово и замок Кериоле.
Луи Шарль Оноре Шово был сильно моложе, но княгиня и его пережила. Когда в 1889 году после его смерти зачитали завещание, оказалось, что замок, подаренный ему Зинаидой Ивановной в качестве свадебного дара, он завещал собственной возлюбленной. Стерпеть такого княгиня не могла, она за большие деньги выкупила Кериоле и передала его администрации, чтобы там сделали музей.

О последних годах Зинаиды Ивановны писал её внук, Феликс Феликсович Юсупов:
«Она жила одна с компаньонкой на Парк-де Прэнс… Так и вижу прабабку, как на троне, в глубоком кресле, и на спинке кресла над ней три короны: княгини, графини, маркизы. Даром, что старуха, оставалась она красавицей и сохраняла царственность манер и осанки. Сидела нарумяненная, надушенная, в рыжем парике и снизке жемчужных бус».
Скончалась Зинаида Ивановна в 1893 году и похоронена в Троицко-Сергиевой Пустыни.