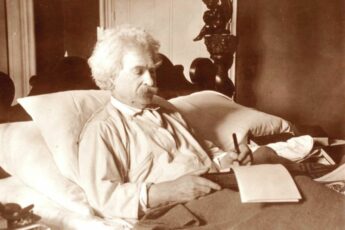— Я правильно понимаю, что этот гастрономический натюрморт неполный? Или это какая-то новая диета, о которой меня забыли уведомить?
Алексей сидел за кухонным столом, держа ложку на весу, словно дирижерскую палочку. Перед ним дымилась тарелка борща — густого, наваристого, именно такого, как он требовал: с мозговой косточкой и правильным оттенком свеклы. Но взгляд его был прикован не к супу, а к пустой хлебнице, сиротливо стоящей у стены.
Марина, вытирая руки кухонным полотенцем, замерла у раковины. Она знала этот тон. Тон усталого профессора, вынужденного в тысячный раз объяснять первокурснику, что Земля круглая. В этом тоне не было крика, только вязкое, липкое презрение, от которого хотелось отмыться под горячим душем.
— Я забыла купить хлеб, Леша, — сказала она ровно, глядя на кафельный фартук кухни. — Зашла после работы в «Пятерочку», там очередь была на три кассы, купила сметану, а про хлеб вылетело из головы. Поешь с сухариками, я вчера сушила.
Ложка со звоном упала обратно в тарелку, забрызгав бульоном чистую клеенку. Алексей медленно, театрально снял очки и начал протирать их краем домашней футболки. Это был ритуал. Подготовка к казни.
— Вылетело из головы, — повторил он, смакуя каждое слово, будто пробовал на зуб фальшивую монету. — Удивительная у тебя голова, Марина. Аэродинамическая труба. Туда всё влетает и, не задерживаясь ни на секунду, вылетает с другой стороны. Скажи мне, а как ты вообще дорогу домой находишь? По навигатору? Или у тебя, как у почтового голубя, встроенный компас, который компенсирует полное отсутствие серого вещества?
— Не начинай, — Марина повернулась к нему. Усталость навалилась на плечи бетонной плитой. — Это просто хлеб. Не трагедия, не пожар. Просто кусок теста.
— Для тебя всё «просто», — Алексей водрузил очки на нос и посмотрел на неё увеличившимися линзами. В этом взгляде читалась брезгливость энтомолога, разглядывающего навозного жука. — Для примитивных организмов мир вообще прост. Поел, поспал, забыл. Но я, Марина, не одноклеточное. Я работаю головой. Мне нужны углеводы. Мне нужен полноценный обед, а не подачки в виде сухарей, которые ты насушила из плесневелых остатков, потому что даже хлеб вовремя выбросить не можешь.
Он отодвинул тарелку. Жидкость плеснула через край, растекаясь красной лужицей.
— Ты просила список? Нет. Ты сказала: «Я всё помню». И вот мы здесь. Перед фактом твоей когнитивной импотенции. Это же элементарный алгоритм: магазин — полка — хлеб — касса. Четыре шага. Четыре! Но даже эта цепочка для твоего мозга — непосильная задача. Перегрузка системы. Синий экран смерти.
Марина смотрела на мужа. На его одутловатое лицо, намечающуюся лысину, на футболку с пятном от кетчупа на животе. Он сидел в своей хрущевке, работая младшим менеджером по продажам стройматериалов, но вел себя так, словно он — непризнанный гений, вынужденный жить с умственно отсталой прислугой. Раньше его «интеллектуальные» тирады вызывали у неё слезы, желание оправдаться, побежать в магазин прямо сейчас. Но сегодня внутри было сухо и пусто. Словно перегорел предохранитель.
— Я могу сходить сейчас, — сказала она без выражения. — Если для тебя это вопрос жизни и смерти.
— Сиди уж, — фыркнул Алексей, скрестив руки на груди. — Ты пока дойдешь, забудешь, зачем вышла. Или заблудишься в подъезде. Ты же у нас уникальный экземпляр. Женщина-сюрприз. Никогда не знаешь, где именно ты облажаешься в следующий раз. Знаешь, я читал статью про раннюю деменцию. Тебе бы провериться. Серьезно. Хотя, что там проверять? Нельзя потерять то, чего никогда не было.
Он взял ложку, зачерпнул суп и с громким хлюпаньем втянул в себя жидкость, тут же скривившись.
— И пересолила. Конечно. Баланс вкуса — это тоже высшая математика. Тебе недоступно. Ты, Марина, — он сделал паузу, подыскивая слово пообиднее, — ты функционально бесполезна. Как сломанный тостер. Место занимаешь, электричество жрешь, а толку ноль.
Марина молча взяла тряпку и вытерла борщ со стола прямо перед его носом. Рука не дрогнула. Она стерла красное пятно, потом сполоснула тряпку под краном, тщательно отжала и повесила на смеситель. Каждое движение было выверенным, спокойным, механическим.
— Ты чего молчишь? — Алексей почувствовал, что привычный сценарий дает сбой. Обычно в этот момент она уже должна была извиняться или плакать. — Язык проглотила? Или оперативка перегружена обработкой информации о собственной никчемности?
— Я думаю, — ответила Марина, не оборачиваясь.
— Думаешь? — Алексей захохотал. Громко, неприятно, так, что задребезжала ложка в стакане. — Ой, не смеши мои тапки. Чем тебе думать? Ты хлеб купить не в состоянии, мыслительница роденовская. Не напрягай извилину, она у тебя одна и та прямая, как рельс. Лопнет еще.
Марина медленно выдохнула. Воздух выходил из легких с тихим свистом. Последняя капля упала не с громким всплеском, а совершенно беззвучно. Чаша переполнилась.
Она развязала фартук, аккуратно сложила его и положила на край тумбочки. Затем вышла из кухни, оставив Алексея наедине с его остывающим, «неправильным» борщом и его огромным, раздутым самомнением.
— Эй! — крикнул он ей вслед, набивая рот. — Куда пошла? Я не договорил! Разговор не окончен, пока я не сказал, что он окончен! Марина!
Но она уже не слушала. Она шла в спальню, и в голове у неё был не вакуум, как он утверждал, а четкий, ясный план. Впервые за десять лет брака.
Чемодан лежал на верхней полке шкафа, покрытый слоем пыли, словно саркофаг забытого фараона. Марина потянула его на себя, не заботясь о том, что серое облако оседает на её чистой блузке и волосах. Пластиковые колесика глухо стукнули об пол. Этот звук в тишине спальни прозвучал как первый удар гонга перед боем.
Она расстегнула молнию. Замок заедал, сопротивлялся, будто сама вещь, купленная пять лет назад для отпуска в Турции, не хотела участвовать в этом фарсе. Марина рванула бегунок с силой, и молния, жалобно взвизгнув, разошлась.
Алексей появился в дверях не сразу. Сначала донесся звук шаркающих тапочек, затем — довольное, сытое урчание. Он вошел в комнату, опираясь плечом о косяк, и в зубах у него торчала зубочистка, которой он лениво ковырял, выуживая остатки мяса. Вид распахнутого чемодана на кровати вызвал у него не испуг, а широкую, снисходительную ухмылку.
— О, начинается второй акт Марлезонского балета, — протянул он, перекатывая зубочистку из одного угла рта в другой. — «Уход оскорбленной добродетели». Я ждал этого. Классика жанра. Знаешь, Марин, тебе бы в драмкружок при доме культуры записаться. Там как раз не хватает бездарных актрис для ролей третьего плана.
Марина не ответила. Она подошла к комоду и начала выдвигать ящики. Движения её были резкими, но точными. Стопка белья, футболки, джинсы — всё летело в нутро чемодана без разбора, без аккуратного складывания, которым она славилась раньше.
Алексей отлип от косяка и прошел вглубь комнаты. Он плюхнулся в своё компьютерное кресло, стоявшее у окна, крутанулся вокруг оси и скрестил ноги. Ему было весело. Он воспринимал происходящее как развлечение, как реалити-шоу, которое показывают персонально для него.
— Ты хоть понимаешь, как жалко ты сейчас выглядишь? — продолжил он, наблюдая, как она сгребает носки. — Куда ты собралась на ночь глядя? К маме? В её клоповник на окраине? О да, теща будет в восторге. Две неудачницы на одной кухне — это сила. Будете пить чай с сушками и обсуждать, какие все мужики козлы, а вы — непризнанные принцессы.
Марина захлопнула ящик с такой силой, что на тумбочке звякнул флакон с духами. Она прошла мимо мужа к шкафу с вешалками. Он даже не пошевелился, чтобы убрать ноги с прохода, ей пришлось перешагнуть через его вытянутые тапки.
— А деньги у тебя есть, путешественница? — Алексей демонстративно похлопал себя по карманам домашних шорт. — Насколько я помню, твой вклад в семейный бюджет сопоставим с погрешностью вычислений. Ты же получаешь копейки. На что ты жить собираешься? На свою гордость? Гордость, дорогая моя, на хлеб не намажешь. Кстати, о хлебе. Ты же даже его купить не способна. Как ты выживешь в большом мире, где нужно включать мозг?
Он откровенно наслаждался ситуацией. Ему нравилось чувствовать своё превосходство. Он — кормилец, хозяин, мозг этой ячейки общества. А она — придаток, который вдруг решил взбрыкнуть.
— Это пальто я покупал, — заметил он, когда она сняла с вешалки демисезонную куртку. — И сапоги эти тоже. Ты бы, по логике вещей, должна уходить в том, в чем я тебя подобрал. В китайских кедах и джинсах с рынка. Но я сегодня добрый. Забирай. Считай это гуманитарной помощью странам третьего мира.
Марина бросила куртку поверх кучи белья. Она чувствовала его взгляд на своей спине — липкий, оценивающий, раздевающий.
— Ты посмотри на себя, — голос Алексея стал тише, интимнее, но от этого еще ядовитее. — Кому ты нужна в тридцать два года? С такой-то фигурой. Ты же расплылась, Марин. Посмотри на эти бедра. А лицо? У тебя морщины вокруг глаз, как у шарпея. Я-то терплю, я привык, я человек благородный. А другой мужик на тебя даже не взглянет. Ты — отработанный материал. Секонд-хенд.
Внутри Марины что-то сжалось в тугой, горячий ком. Не от обиды, нет. Обида закончилась где-то между супом и прихожей. Это была ярость. Холодная, белая ярость, которая проясняла зрение. Она слышала каждое слово, но теперь они не ранили. Они просто подтверждали диагноз.
Она взяла с полки свою шкатулку с дешевой бижутерией и парой золотых сережек — подарком родителей на совершеннолетие. Бросила её в боковой карман чемодана.
— Молчишь? — Алексей перестал крутиться в кресле. Его начало раздражать отсутствие реакции. Он привык к истерикам, к оправданиям, к тому, что она пытается доказать свою значимость. Молчание жены выбивало почву из-под ног, лишало его подпитки. — Язык в задницу засунула? Я с кем разговариваю, со стеной? Ау, прием! Земля вызывает вакуум!
— Я всё слышу, Леша, — впервые за всё время подала голос Марина. Голос был сухим и шершавым, как наждачная бумага. — Я просто удивляюсь, как в одном человеке помещается столько дерьма. У тебя, наверное, анатомия другая. Вместо души — канализация.
Алексей замер на секунду, опешив от такой наглости, а потом рассмеялся. Громко, хлопая себя по коленям.
— Ого! Огрызаемся! Голос прорезался! Смотри-ка, хомячок отрастил зубки! Канализация, говоришь? Да я единственный, кто говорит тебе правду! Все остальные тебе льстят или жалеют тебя, убогую. А я открываю тебе глаза. Ты должна мне ноги целовать за честность!
Марина начала застегивать чемодан. Вещей было много, крышка не поддавалась. Она навалилась на неё всем весом, пытаясь свести края молнии.
— Давай-давай, пыхти, — подбодрил её Алексей, не вставая с кресла. — Пыхти, паровоз. Это полезно, может, хоть пару калорий сожжешь. Хотя с твоим метаболизмом это как мертвому припарка.
Наконец замок поддался. Марина рывком поставила чемодан на колесики и выдвинула телескопическую ручку. Она оглядела комнату. На тумбочке осталась их свадебная фотография в рамке. Она посмотрела на неё, на счастливые, глупые лица двух людей, которых больше не существовало, и отвернулась. Фотография осталась стоять. Ей она была не нужна.
— Ну всё, антракт окончен, — Алексей встал с кресла. Его лицо потеряло выражение веселой снисходительности и стало жестким, злым. Шутки кончились, началось подавление. — Поиграли и хватит. Разбирай барахло обратно. Я не разрешал тебе устраивать этот балаган.
— Мне не нужно твое разрешение, — Марина взялась за ручку чемодана.
— Нужно, — Алексей шагнул к выходу из спальни, опережая её. — Ты — моя жена. Ты живешь в моей квартире. И ты будешь делать то, что я скажу. А я говорю: спектакль окончен.
Он вышел в коридор первым и остановился в узком проходе, широко расставив ноги и уперев руки в бока, перекрывая единственный путь к свободе. В его позе читалась абсолютная уверенность в том, что мышечная масса и громкий голос — это главные аргументы в любом споре.
Колесики чемодана глухо рокотали по ламинату, пока не уперлись в ворсистый коврик прихожей. Дальше пути не было. Пространство узкого коридора, заставленного обувницей и вешалкой с верхней одеждой, было полностью перекрыто широкой спиной Алексея. Он стоял, уперев руки в дверные косяки, создавая живую баррикаду. В этой позе было столько хозяйской вальяжности, столько уверенности в своем праве распоряжаться не только квадратными метрами, но и траекторией движения другого человека, что Марине стало душно.
— Отойди, — сказала она тихо. В этом слове не было просьбы, только констатация факта: мне нужно пройти.
Алексей медленно покачал головой, цокая языком, как строгий учитель, отчитывающий нерадивого ученика за кляксу в тетради.
— Не-а. Не отойду. Потому что ты, Мариночка, ведешь себя иррационально. А я, как существо высшего порядка, обязан уберечь тебя от твоей же глупости. Куда ты пойдешь? На улицу? Там дождь, грязь и маньяки. А ты у нас барышня тепличная, к суровым реалиям жизни неприспособленная. Через пять минут промокнешь, замерзнешь и приползешь обратно с соплями. Зачем нам этот лишний круг сансары?
Марина сделала шаг влево, пытаясь протиснуться между ним и стеной. Алексей тут же, с кошачьей грацией, сместил корпус влево, закрывая брешь. Она дернулась вправо — он зеркально повторил движение, превращая унизительную ситуацию в издевательский танец.
— Прекрати паясничать, — голос Марины зазвенел от напряжения. Она чувствовала запах его дезодоранта, смешанный с ароматом того самого борща, который он так и не доел. Этот запах вызывал тошноту. — Я не шучу, Леша. Дай мне пройти.
— А то что? — он наклонился к ней, нависая сверху. Его лицо оказалось в опасной близости от её лица. Она видела расширенные поры на его носу, видела желтоватый налет на зубах. — Что ты сделаешь? Вызовешь полицию? «Алло, дяденька полицейский, мой муж не пускает меня гулять ночью с чемоданом»? Они поржут и трубку повесят. Ты же никто, Марин. Пустое место. Тень отца Гамлета. Без меня ты просто исчезнешь, растворишься. Кто тебе еще скажет правду про твой куриный мозг?
Марина крепче сжала ручку чемодана. Костяшки пальцев побелели. Внутри неё, где-то в районе солнечного сплетения, закипала лава. Годы, проведенные под прессом его «интеллектуальной критики», спрессовались в этот один момент.
— Ты назвал меня тупой курицей, потому что я забыла купить хлеб! А сам ты чего в жизни добился, диванный критик? Я молча собирала вещи, а ты стоял в дверях и ржал: «Кому ты нужна»? Я больше не твоя груша для битья!
— Да что ты говоришь? — продолжал усмехаться он.
— Ты десять лет сидишь на одной должности! Ты продаешь плинтуса и гипсокартон, а рассуждаешь так, будто управляешь транснациональной корпорацией! Ты критикуешь всё: правительство, соседей, кино, книги, мою еду, мою внешность. Но сам ты даже кран в ванной починить не можешь, мастера вызываем! Ты ноль, Леша. Раздутый от важности ноль.
Алексей на секунду замер. Улыбка сползла с его лица, сменившись выражением искреннего изумления. Он не ожидал атаки. Он привык, что мишенью всегда является она. Но изумление быстро сменилось яростью, замаскированной под жалость.
— Ого, — протянул он, снова расплываясь в гадкой ухмылке. — Вот это прорыв. Экзистенциальный кризис среднего возраста? Или это ПМС так по мозгам ударил? Смешно, Марин. Правда, смешно. Слышать о достижениях от женщины, чье главное достижение — это умение не сжечь яичницу, и то через раз.
— Тебе смешно? Тебе весело, что твоя жена уходит?
— Мне смешно, потому что ты никуда не уйдешь, — отрезал Алексей. Он перестал кривляться и жестко схватил её за плечо. Пальцы больно впились в мякоть руки через ткань блузки. — Кому ты нужна? Я больше не твоя груша для битья, — передразнил он её, скривив губы. — Ой, какие мы гордые. Да ты пропадешь без меня через неделю! Кто тебе налоги посчитает? Кто за квартиру заплатит? Ты же даже показания счетчиков снять не можешь, не перепутав цифры!
Марина попыталась стряхнуть его руку, но он держал крепко. Он наслаждался своей силой. Это была не драка, нет. Это было утверждение власти. Он показывал ей её место — место маленького, слабого существа, которое должно знать свой шесток.
— Пусти, — прошипела она.
— А если не пущу? — Алексей придвинулся вплотную, прижимая её чемоданом к стене. Теперь ей действительно было некуда деваться. Сзади — стена, спереди — он, сбоку — вешалка. Ловушка захлопнулась. — Что ты мне сделаешь, мышь серая? Покусаешь? Заплачешь? Давай, пореви. Я люблю, когда ты ревешь. У тебя тогда лицо становится красным и пятнистым, очень забавно.
Он снова рассмеялся. Этот смех был похож на лай. Громкий, раскатистый, заполняющий всё пространство крохотной прихожей. Он смеялся ей в лицо, брызгая слюной, смеялся над её попыткой бунта, над её чемоданом, над всей её жизнью. Он был абсолютно уверен в своей неуязвимости. Ведь что может сделать женщина, которая даже хлеб купить забыла?
Взгляд Марины заметался по прихожей. Вешалка, куртки, ложка для обуви… Слишком легкая. Зеркало… Слишком высоко. Тумбочка… На тумбочке, среди счетов и ключей, лежал тяжелый, чугунный утюг старого образца. Алексей достал его утром, чтобы погладить рубашку — он не доверял современным отпаривателям, считая их «игрушками для идиотов», и специально купил этот раритет на барахолке, утверждая, что только тяжесть металла может идеально разгладить хлопок. Он так и оставил его здесь, остывать, потому что убирать вещи на место — это обязанность прислуги, то есть Марины.
Ручка утюга тускло блеснула в свете лампочки. Черный, массивный, холодный металл.
— Ну чего затихла? — Алексей слегка встряхнул её за плечо, как тряпичную куклу. — Аргументы кончились? Батарейка села? Я так и знал. Возвращайся в спальню, разбирай вещи и марш на кухню. Я, так и быть, прощу тебе этот цирк. Но в качестве наказания неделю будешь мыть полы руками. Полезно для смирения.
Он отпустил её плечо и сделал шаг назад, но не в сторону, а просто освобождая ей пространство для позорного отступления обратно в квартиру. Он был уверен, что победил. Он всегда побеждал.
Марина медленно выпрямилась. В её голове наступила звенящая, кристальная тишина. Больше не было страха. Не было сомнений. Было только одно желание — убрать препятствие. Убрать этот гогочущий, самодовольный кусок плоти, который закрывал ей выход к воздуху.
Её рука сама потянулась к тумбочке. Пальцы сомкнулись на холодной эбонитовой ручке утюга. Он был тяжелым. Приятно тяжелым. Весомым аргументом в споре, который длился десять лет.
Алексей, заметив движение её руки, даже не отшатнулся. Напротив, он подался вперед, сузив глаза. В его мировоззрении, где он был царем горы, а Марина — безмолвным подножием, просто не существовало сценария, в котором она могла бы представлять физическую угрозу. Для него этот жест с утюгом выглядел так же нелепо, как если бы хомяк погрозил пальцем коту.
— Ты что, гладить собралась? — хохотнул он, и этот смех, булькающий и самодовольный, стал последней каплей. — Поставь на место, надорвешься. Это чугун, деточка, а не пластиковая игрушка. У тебя кисти слабые, выронишь еще мне на ногу. Давай, не позорься. Поиграла в Рэмбо и хватит.
Он протянул руку, намереваясь схватить её за запястье и отобрать «опасный предмет», как отбирают спички у неразумного ребенка. Его пальцы были расслаблены, движения вальяжны. Он был открыт, абсолютно не защищен своей самоуверенностью.
Марина не думала. В этот момент её мозг, который он столько лет называл примитивным, сработал с пугающей, животной эффективностью. Она не замахивалась, чтобы убить. Она не метила в голову. Ей нужно было просто убрать препятствие. Снести завал, мешающий выходу.
Рука с тяжелым, черным утюгом описала короткую, резкую дугу снизу вверх. Это было движение отчаяния, в которое она вложила всю свою десятилетнюю усталость, всю обиду за «тупую курицу», за каждую унизительную лекцию о сортах хлеба и когнитивных способностях.
Глухой, тошнотворный звук удара металла о кость разорвал тишину прихожей. Утюг с силой врезался Алексею в плечо, ближе к ключице, в то место, где шея переходит в торс.
— А-ах! — выдохнул Алексей. Это был не крик, а скорее удивленный всхлип, словно из него резко выбили весь воздух.
Его глаза, только что полные насмешки, округлились до размеров блюдец. Лицо мгновенно побелело, покрывшись испариной. Инерция удара и неожиданная вспышка ослепляющей боли сделали своё дело. Ноги подкосились. Он не упал картинно, как в кино, а просто осел, сползая спиной по стене, за которую держался секунду назад. Его тяжелое тело глухо стукнулось о пол, сбив в кучу аккуратно расставленные ботинки.
Марина стояла над ним, тяжело дыша. Утюг всё еще был зажат в её руке. Она смотрела на мужа сверху вниз, и впервые за долгие годы угол зрения был правильным. Теперь маленьким и жалким казался он. Алексей сидел на паркете, судорожно хватаясь здоровой рукой за ушибленное плечо, и открывал рот, пытаясь вдохнуть, но шок сковал легкие.
— Ты… — просипел он, глядя на неё с животным ужасом. В его взгляде читалось полное непонимание: как мебель посмела дать сдачи? — Ты… больная…
Марина разжала пальцы. Чугунный утюг с грохотом упал на пол в сантиметре от его бедра, оставив на ламинате глубокую вмятину. Алексей инстинктивно дернулся, вжавшись в угол между обувницей и стеной, ожидая второго удара.
Но второго удара не последовало. Марина даже не посмотрела, куда упал утюг. Ей было всё равно. Она перехватила ручку чемодана поудобнее.
— Проход свободен, — сказала она. Голос был ровным, лишенным эмоций. Не было ни торжества, ни раскаяния. Только холодная констатация факта.
Она сделала шаг вперед. Алексей сидел, перегораживая ногами часть коридора. Марина не стала обходить. Она просто перешагнула через его вытянутые ноги, как перешагивают через мешок с мусором, который забыли вынести. Колесики чемодана проехали по его лодыжке. Алексей взвыл и поджал ноги, но Марина даже не обернулась.
Она подошла к входной двери, щелкнула замком. Металлический язычок легко скользнул внутрь. Дверь подалась, впуская в душную, пропитанную ненавистью квартиру свежий, прохладный воздух подъезда.
— Стой… — прохрипел Алексей сзади. Его голос дрожал, в нем пробивались нотки паники. Боль в плече пульсировала, отдавая в шею и руку, но страшнее боли было осознание того, что зритель уходит, оставляя актера одного в пустом театре. — Ты не можешь… Ты сдохнешь без меня! Слышишь? Приползешь!
Марина замерла на пороге. На секунду. Она не обернулась, чтобы посмотреть на него в последний раз. Ей не нужно было запоминать его лицо — искаженное болью и злобой, оно и так отпечаталось в памяти навсегда.
— Хлеб купи сам, — бросила она в пустоту подъезда. — Если вспомнишь алгоритм: магазин — полка — касса.
Она вышла на лестничную площадку и потянула дверь на себя. Дверь закрылась не с хлопком, а с тяжелым, плотным щелчком, отрезая звуки, запахи и прошлое.
Алексей остался сидеть на полу в прихожей. Левое плечо горело огнем, рука начала неметь. Он смотрел на закрытую дверь, на вмятину в ламинате от утюга, на разбросанные ботинки. Тишина в квартире стала внезапно плотной, ватной, давящей на уши. Никто не гремел посудой на кухне, не шумела вода в ванной.
Он попытался встать, но резкая боль пронзила тело, заставив снова опуститься на пол. Он прислонился головой к стене и закрыл глаза. На месте удара уже начал наливаться огромный, темно-фиолетовый синяк — печать его «педагогического» провала.
— Дура, — прошептал он в тишину, но слово прозвучало жалко и неубедительно. — Психопатка.
Он был уверен, что она вернется. Через час, через день. Обязана вернуться. Ведь она — никто. А он — Алексей, глава семьи, интеллект…
Но где-то в глубине его «аналитического» ума, который он так ценил, зашевелилась холодная, липкая мысль: она не вернется. Никогда. И этот чемодан, и этот удар, и этот щелчок замка — это был не истерический спектакль. Это был финал.
Он сидел один в полумраке коридора, баюкая ушибленную руку, диванный критик, поверженный собственной «грушей для битья», и слушал, как удаляются шаги по лестнице. С каждым шагом Марины его уверенность в собственной исключительности рассыпалась в прах, оставляя его наедине с грязным полом, пустым желудком и звенящим одиночеством…