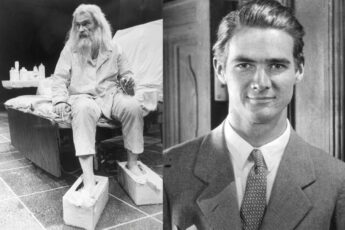— Жень, привет. Ну как вы там?
Голос брата в трубке звучал бодро, почти весело, и от этого контраста с реальностью Евгению передёрнуло. Она стояла у плиты, помешивая ложкой жидкую овсянку в маленькой кастрюльке, и смотрела на то, как её собственная однокомнатная квартира превратилась в филиал палаты для лежачих больных. Медицинская кровать с противопролежневым матрасом съела почти всё пространство, вытеснив её диван и журнальный столик в угол. Воздух густо пах лекарствами, хлоргексидином и чем-то ещё, неуловимо-больничным, что уже, казалось, въелось в саму мебель.
— Как обычно, Стас. Мама поела, поменяла ей всё. Сейчас вот кашу на обед варю. У неё аппетит сегодня получше.
Она говорила это ровным, механическим голосом, которым за последние три месяца научилась сообщать сводки о состоянии матери. Нина Васильевна лежала на кровати, отвернувшись к стене. Левая часть её тела была неподвижна, но правый глаз был открыт и осмысленно следил за тенями на обоях. Она всё слышала и всё понимала. Это было одновременно и спасением, и проклятием.
— Слушай, я чего звоню… Мы тут с Ланой посовещались, — начал Стас издалека, и Евгения инстинктивно напряглась. Эта фраза «мы с Ланой посовещались» никогда не предвещала ничего хорошего. Обычно за ней следовали советы о том, как ей, Жене, лучше воспитывать сына, или на какой работе ей стоило бы работать, чтобы «не прозябать в нищете». — Понимаешь, мы очень переживаем. И за маму, и за тебя. Ты же себя в гроб загонишь с таким режимом.
Евгения молча сняла кашу с огня. За три месяца Стас позвонил раз пять. Лана — ни разу. Их «переживания» выразились в единственном денежном переводе, который едва покрыл стоимость одной упаковки специальных подгузников.
— Ты одна, сын у тебя, работа… А тут такой уход нужен, профессиональный. Мы посмотрели, сейчас есть очень хорошие пансионаты. Частные. С отличным уходом, медсёстрами, процедурами.
Евгения поставила кастрюлю на стол. Рука, державшая телефон, похолодела.
— Какой пансионат, Стас? Ты в своём уме? Мать в сознании. Она в своём доме хочет быть.
— Вот! Вот именно об этом я и говорю, — с воодушевлением подхватил он, пропустив мимо ушей её возражение. — Про дом. Трёшка её пустует, коммуналка капает. А это же огромные деньги! Если её продать… Он сделал паузу, давая ей, видимо, осознать гениальность его плана. — …то денег хватит и на лучший пансионат на несколько лет вперёд, и нам с тобой останется прилично. Поделим по-честному, пятьдесят на пятьдесят. Купишь себе квартиру побольше, тебе же тесно с сыном. И отдохнёшь наконец, поживёшь для себя.
Евгения медленно повернулась и посмотрела на мать. Нина Васильевна перевела взгляд с обоев на дочь. В её единственном живом глазу стоял немой вопрос и ужас. Она всё поняла.
— То есть, ты предлагаешь продать квартиру живой матери и сдать её в богадельню, чтобы поделить деньги? — спросила Евгения так тихо, что на том конце провода, кажется, не сразу расслышали.
— Ну почему сразу в богадельню? Жень, не драматизируй. Это цивилизованный подход! Весь мир так живёт! Мы же не на улице её оставляем, а наоборот, заботимся!
Заботитесь. Это слово ударило её как пощёчина. Она три месяца не спала ночами, переворачивая мать каждые два часа, чтобы не было пролежней. Она научилась делать уколы, измерять давление, ставить катетеры. Она таскала на себе взрослую женщину в ванную, совмещая это с работой на удалёнке и заботой о сыне-подростке. А они «посовещались» и нашли «цивилизованный подход».
— Стас, я хочу, чтобы ты приехал. Вместе с Ланой. И сказал мне это всё в лицо. Глядя на меня и на маму.
— Конечно, приедем! Я же говорю, мы всё продумали! — обрадовался он. — Завтра будем. Всё обсудим, как нормальные люди.
Она нажала отбой, не попрощавшись. Подошла к кровати и взяла мать за тёплую, рабочую правую руку.
— Мам, не бойся. Никто тебя никуда не отдаст. И дом твой никто не тронет. Я обещаю.
Нина Васильевна слабо сжала её пальцы. А Евгения смотрела в окно на серый осенний двор и понимала, что завтра будет не обсуждение. Завтра будет война.
Они приехали на следующий день, ближе к обеду. Евгения открыла дверь и на пороге увидела не просто брата и его жену, а живую иллюстрацию двух разных миров. Стас выглядел слегка помятым после дороги, в дорогой, но уже несвежей рубашке, с выражением виноватой решимости на лице. Рядом с ним Лана казалась фарфоровой статуэткой, случайно попавшей в приют для бездомных. Идеально уложенные волосы, безупречный бежевый тренч, тонкий аромат духов, который мгновенно вступил в схватку с больничным запахом квартиры и проиграл.
— Привет, — Стас шагнул через порог, неловко обнял сестру.
Лана лишь кивнула, её взгляд скользил по убогой обстановке с брезгливым любопытством. Она не разулась, лишь прошла вглубь коридора, словно боясь испачкать свои элегантные туфли. Её глаза остановились на медицинской кровати, где лежала Нина Васильевна, и на её лице отразилось то выражение, с которым люди смотрят на что-то неприятное, но неизбежное, как на затянувшуюся плохую погоду.
— Нина Васильевна, как вы тут? — произнесла она голосом, в котором было больше светской любезности, чем искреннего участия.
Нина Васильевна повернула голову. Её здоровый глаз внимательно, без тени страха, смотрел прямо на невестку. Она не могла говорить, но этот взгляд был красноречивее любых слов. В нём читалось всё: и знание, и презрение, и холодное ожидание.
— Давайте на кухню, — бросила Евгения, понимая, что этот разговор не должен происходить над головой матери. — Чай будете? Хотя какой чай.
На крохотной кухне, заставленной банками с детским питанием, которое теперь шло на корм взрослому человеку, они расселись за столом. Лана села на самый краешек табуретки, поставив рядом на пол свою дорогую сумку. Она сразу взяла инициативу в свои руки, пока Стас молча изучал трещину на потолке.
— Жень, давай по-деловому, без лишних эмоций, — начала она ровным, хорошо поставленным голосом менеджера по продажам. — Мы с тобой взрослые люди. Ситуация объективно тяжёлая. Мать в таком состоянии может пролежать годы. Ты готова положить на это свою жизнь? Жизнь своего сына? В этой конуре, в нищете, без перспектив?
Каждое её слово было выверено и било точно в цель — в самые уязвимые места Евгении: её усталость, её безденежье, её страх за будущее ребёнка.
— Это моя мать, Лана, — просто ответила Евгения.
— Это и его мать, — кивнула Лана в сторону мужа. — И мы предлагаем рациональное решение. Актив в виде трёхкомнатной квартиры не должен простаивать. Это неразумно. Продаём, деньги делим. Мать определяем в лучшее заведение, где ей обеспечат круглосуточный медицинский уход, который ты дать не в состоянии. Все в выигрыше.
Стас наконец оторвал взгляд от потолка. — Лана права, Жень. Мы же как лучше хотим. Мы уже и покупателей нашли, кстати. Люди серьёзные, готовы быстро выйти на сделку.
Евгения смотрела на них, и в её голове не укладывалось, как можно с таким будничным видом обсуждать продажу дома живого, всё понимающего человека. Словно речь шла о старом шкафе, который пора вывезти на свалку.
— А мама в курсе, что у неё уже покупатели нашлись? Вы её спросили?
— А что её спрашивать? — фыркнула Лана. — Она в адеквате разве, чтобы что-то решать? Жень, хватит изображать героиню. Мы же все понимаем, что ты это делаешь не из чистого альтруизма. Рассчитываешь, что квартира тебе одной в итоге достанется.
Эта фраза, брошенная с лёгкой усмешкой, стала детонатором. Но Евгения не закричала. Она посмотрела на брата холодным, тяжёлым взглядом.
— Стас, вы в квартире у мамы были?
Он замялся, переглянулся с женой.
— Ну… да. Заезжали на днях. Проверить, всё ли в порядке.
— И что, всё в порядке?
— Да, всё нормально, — поспешно вставила Лана. — Мы, кстати, забрали кое-какие ценные вещи на хранение. Мамины украшения, отцовский фотоаппарат старый, сервиз этот серебряный. Чтобы ничего не пропало, пока квартира пустует. Мало ли кто залезет.
Евгения медленно поднялась. Внутри у неё всё похолодело. Они не просто планировали. Они уже действовали. Они уже хозяйничали в чужом доме, как мародёры.
— Вывозили вещи, — повторила она глухо. — Понятно. Значит, вы уже всё для себя решили.
Евгения стояла посреди своей крохотной кухни, и ей казалось, что стены сдвигаются. Слова Ланы о «хранении» ценностей звучали не как забота, а как протокол описи имущества перед ликвидацией. Она смотрела на брата, на его бегающие глаза, на то, как он старательно избегал её взгляда, и понимала, что он был не просто ведомым — он был соучастником. Он всё знал и со всем согласился. Холодная ярость, чистая и острая, как осколок льда, начала подниматься из глубины её измученной души.
— То есть вы не просто приехали меня уговаривать, — медленно, чеканя каждое слово, произнесла она. — Вы приехали ставить перед фактом. Покупатели найдены, вещи вывезены. Осталось только убедить строптивую сестру не мешать процессу.
— Жень, ну не усложняй, — вмешалась Лана с ноткой раздражения в голосе. Она явно устала от этой «семейной драмы» и хотела поскорее перейти к делу. — Это прагматичный подход. Мы избавляем тебя от бремени, которое ты сама на себя взвалила. Ты должна быть нам благодарна.
Благодарна. Это слово стало последней искрой. Весь тот ад, через который она проходила последние три месяца — бессонные ночи, страх, отчаяние, унизительные гигиенические процедуры, вечная нехватка денег и сил — всё это в один миг вспыхнуло внутри неё неугасимым огнём. Она сделала шаг вперёд, и Лана инстинктивно вжала голову в плечи.
— Вы серьёзно? Мама парализована, а вы хотите продать её дом и поделить деньги? Да как у вас вообще язык повернулся такое предложить? Пошли вон отсюда, гиены!
Голос её не срывался, он был сильным и полным звенящего металла. Это был не крик слабости, а рёв раненого, но не сломленного зверя, защищающего своё логово.
Стас вздрогнул и вскочил.
— Жень, тише, ты чего… Мы же просто поговорить…
— Поговорить?! — она развернулась к нему, и он отшатнулся от взгляда её потемневших глаз. — Это ты называешь «поговорить»? Приехать и объявить, что вы уже обчистили квартиру моей матери, пока я тут её с того света вытаскиваю? Ты хоть раз позвонил и спросил, нужны ли мне лекарства? Или помощь? Нет! Ты позвонил, чтобы сообщить, что нашёл способ выгодно избавиться от неё!
— Да перестань ты уже! — не выдержала Лана, её идеальная маска дала трещину, и из-под неё проступило уродливое раздражение. Она тоже поднялась, глядя на Евгению сверху вниз. — Хватит строить из себя святую мученицу! Устроила тут показательные выступления! Да какой смысл держать целую трёхкомнатную квартиру ради… овоща?
Она бросила это слово легко, почти небрежно, как будто говорила о засохшем комнатном растении. И в этот момент что-то сломалось. Но не в Евгении.
Станислав, который до этого стоял между ними, пытаясь что-то лепетать про «цивилизованный диалог», резко замолчал. Он медленно повернул голову и посмотрел на свою жену. Он смотрел на неё так, словно видел впервые в жизни. Не на красивую, ухоженную, успешную Лану, которую он всем с гордостью представлял, а на чужого, ледяного человека, только что вынесшего приговор его собственной матери. В её глазах он не увидел ни злости, ни сожаления. Только холодное, деловое недоумение — почему эти люди не могут понять такой простой и выгодной схемы?
— Что ты сказала? — спросил он тихо, почти шёпотом.
— А что я не так сказала? — вызывающе ответила Лана, не чувствуя перемены в нём. — Мы должны думать о живых! О нашем будущем! А не цепляться за прошлое, которое уже никогда не будет прежним!
— Заткнись, — произнёс Стас. Так же тихо, но с такой силой, что Лана осеклась на полуслове. Он сделал шаг к ней, и его лицо было серым. — Просто заткнись.
Он смотрел на неё, и в его взгляде смешались ужас и омерзение. Он вдруг отчётливо понял, что всё это время жил не с женщиной, а с калькулятором. Что все её слова о любви, о семье, о будущем были лишь частями какого-то большого бизнес-плана, в котором он сам был всего лишь одним из активов. А его мать — досадной помехой.
— Ты… ты что, её сторону принял? — опешила Лана, наконец осознав, что что-то пошло не так. — После всего, что я для тебя…
— Вон, — перебил её Стас, указывая на дверь. Его рука не дрожала. — Я сказал, пошла вон.
Лана застыла с открытым ртом. Она смотрела то на мужа, то на Евгению, которая молча наблюдала за этой сценой. В мире Ланы такого не бывало. Её планы не могли рушиться. Её мужчины не смели ей перечить. Но сейчас перед ней стоял не её послушный Стас. Перед ней стоял сын Нины Васильевны. И он только что сделал свой выбор.
Лана застыла, её лицо на мгновение утратило своё фарфоровое совершенство, превратившись в уродливую маску недоумения и ярости. Она ожидала чего угодно: криков, уговоров, скандала между сестрой и братом, но только не этого ледяного приказа от собственного мужа. В её просчитанном мире такая переменная отсутствовала.
— Что значит «вон»? Стас, ты с ума сошёл? Ты собираешься променять наше будущее, всё, что мы построили, на эту… — она запнулась, ища слово, и презрительно обвела взглядом убогую кухню, — …на эту нищету? Ты выберешь их?
Он не ответил. Он просто смотрел на неё, и в его взгляде больше не было ни любви, ни привычки, ни даже ненависти. Там была пустота. Словно он смотрел сквозь неё на что-то далёкое и уже решённое. Эта пустота напугала Лану больше, чем любой крик.
— Я не вернусь, Стас! — её голос стал выше, пронзительнее. — Ты пожалеешь об этом! Ты один ничего не стоишь! Ты вернёшься ко мне, когда поймёшь, что без меня ты никто, но будет поздно!
Он молчал. Евгения, стоявшая у стены, тоже молчала. Она была лишь зрителем в финальном акте чужой пьесы, которая по какой-то злой иронии разыгрывалась на её территории. Лана поняла, что представление окончено. Схватив свою сумку, она бросила на мужа последний взгляд, полный яда и обещания мести, и вылетела из квартиры. Входная дверь не хлопнула — она закрылась с тихим, окончательным щелчком.
На кухне воцарилась густая, тяжёлая тишина. Стас медленно опустился на табуретку, на которой только что сидела его жена. Он сгорбился, обхватив голову руками, и так сидел несколько минут. Евгения не двигалась, давая ему это время. Она не чувствовала ни злорадства, ни сочувствия. Только глухую, всепоглощающую усталость.
— Она всегда такой была? — наконец спросил он, не поднимая головы. Его голос был глухим. — Всегда? А я не видел. Или не хотел видеть.
— Ты видишь сейчас, — ровно ответила Евгения. Она подошла к раковине, открыла кран и налила стакан воды. Поставила его на стол перед братом. — Пей.
Он поднял на неё глаза. В них было столько растерянности и стыда, что на секунду ей стало его жаль. Но жалость прошла так же быстро, как и появилась.
— Что теперь? — спросил он, глядя в стакан.
— Теперь мы поедем домой, — просто сказала Евгения. — В наш дом. Завтра же. Нужно всё подготовить и перевезти маму.
Они работали два дня без передышки. В трёхкомнатной квартире Нины Васильевны, пахнущей пылью и забвением, они двигали мебель, мыли полы и окна. Стас молча, с какой-то ожесточённой энергией, разбирал старые завалы на балконе. Евгения перестилала постель в материнской спальне, протирала её любимые фотографии на комоде. Они почти не разговаривали, но это молчание было рабочим, объединяющим. Каждый их жест был искуплением. Вечером Стас нашёл в шкафу старый фотоальбом. Они сели на диван и молча листали его. Вот они маленькие, на даче. Вот отец, молодой и живой, учит Стаса кататься на велосипеде. Вот мама, смеющаяся, держит на руках новорождённую Женьку. На последней странице была их общая семейная фотография, сделанная лет десять назад. Все улыбались. Кроме Ланы. Она смотрела в камеру с тем же выражением холодной оценки, с каким недавно смотрела на их больную мать. Стас закрыл альбом.
Перевозка Нины Васильевны прошла на удивление гладко. Когда её внесли в родную квартиру и уложили на её собственную кровать, она впервые за три месяца попыталась улыбнуться. Уголок её губ, подвластный ей, дёрнулся вверх. Она обвела комнату долгим, осмысленным взглядом и посмотрела на детей. В её глазах не было ни упрёка, ни прощения. Только тихое, глубокое спокойствие. Она была дома.
Через неделю Стасу позвонила Лана. Её голос был вкрадчивым, медовым. Она говорила, что погорячилась, что всё осознала, что готова извиниться перед всеми и что они должны быть вместе. Стас дослушал её до конца.
— Лана, — сказал он спокойно, глядя в окно на двор, где когда-то играл ребёнком. — Вещи, которые ты взяла, — мамины украшения и отцовский фотоаппарат, — я упаковал в коробку. Она стоит у мусорных баков за домом. Адрес я тебе пришлю сообщением. Больше не звони сюда.
Он положил трубку и заблокировал её номер. Рассказывать сестре не стал. Это была его война, и он её только что закончил. Даже их общие друзья, до которых дошли обрывки этой истории, перестали отвечать на звонки Ланы. Её прагматичный мир, построенный на выгоде и связях, рассыпался, оставив её в полной изоляции. Она просчиталась в главном — в цене человеческой жизни. И за этот просчёт ей предстояло заплатить одиночеством…