Софья Васильевна Ковалевская устало откинулась на спинку кресла, поправляя съехавшую на плечи шаль. Она провела за рабочим столом больше десяти часов кряду. За окном уже занимался рассвет, поленья в камине давно прогорели. И только сейчас Софья вдруг почувствовала, как сильно замёрзла.
Когда она работала, увлекшись очередной сложной математической задачей, то не замечала ни холода, ни боли в груди, которая временами подкатывала и сжимала сердце огненными тисками. Сегодняшний приступ был особенно тяжелым. Софья едва могла сделать вдох, ладони покрылись липким холодным потом.
«Ничего, это пройдет, обязательно пройдет», — мысленно успокаивала она себя. В конце концов, ей приходилось жить с этой болезнью уже сорок лет, с тех самых пор, как ещё в раннем детстве доктора обнаружили у нее врожденный порок сердца.

Пошатываясь от усталости и недомогания, Софья Васильевна медленно подошла к графину с водой. Трясущейся рукой она потянулась за стаканом, но внезапно почувствовала резкую боль внутри, будто ее пронзили чем-то острым.
«Наверное, примерно то же самое чувствует бабочка, нанизанная на булавку», — отстранённо подумала Ковалевская. В следующий миг она без чувств рухнула на пол.
— Господи, что же это такое? Нужно скорее подняться, пока дочка или Максим случайно не заглянули и не подняли тревогу, — пронеслось у нее в голове, когда Софья пришла в себя.
С огромным трудом, опираясь на кресло, она поднялась на ноги. Голова нещадно кружилась и гудела. И тут Софья вдруг с удивлением заметила, что по лицу и шее у нее течет кровь. Теряя сознание, она выронила стакан, который разлетелся вдребезги.
Мелкие острые осколки впились в мочку уха, щеку и шею, оставив глубокие порезы. Стоя перед зеркалом и осторожно промывая раны, Ковалевская мысленно отчитывала себя: «Ну что за неуклюжая гусыня! У тебя вечно все из рук валится, растяпа!»
Теперь уж точно не избежать расспросов и волнений со стороны домочадцев. Нужно срочно придумать правдоподобное объяснение случившемуся, но, увы, беда в том, что Софья катастрофически не умела врать.
Она отчётливо помнила один случай из детства, когда старшая сестра Аня на ее глазах нечаянно разбила мамину любимую вазу из тончайшего фарфора и слёзно попросила не выдавать ее.
Но стоило отцу, грозному генералу Круковскому, строго спросить: «Кто это сделал?», как маленькая Соня мгновенно залилась краской и стала нервно теребить кружевную оборку своего передника.
Отец, конечно же, решил, что виновата младшая дочь, хотя Аня тут же во всем призналась. В наказание Софье пришлось весь вечер просидеть в одиночестве в своей комнате, как ни заступалась за нее сестра.
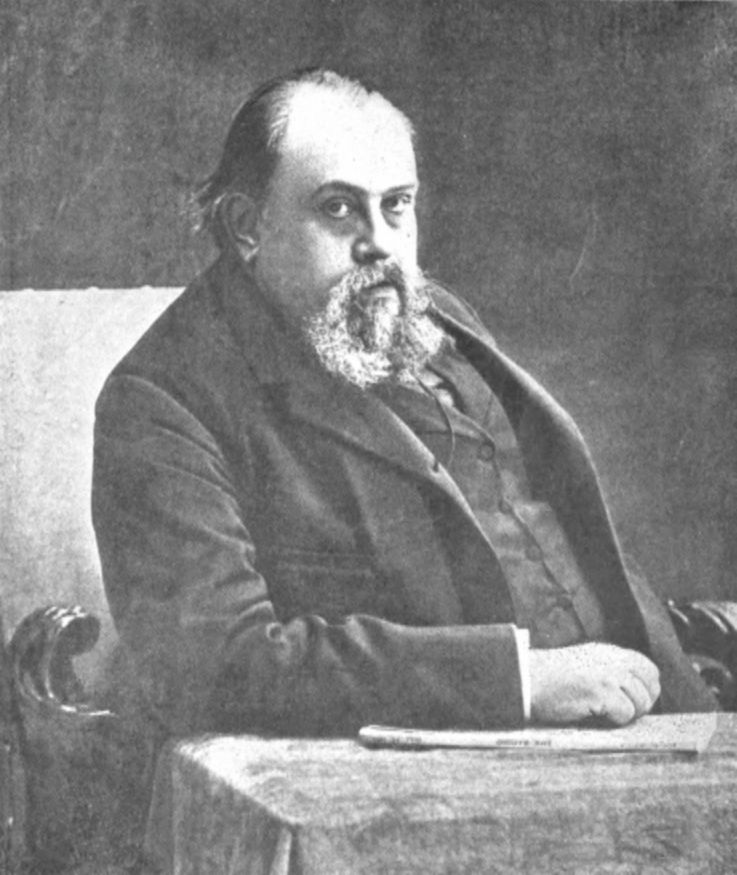
Едва Софья успела кое-как привести себя в порядок и стереть следы крови, как в дверь кабинета требовательно постучали. На пороге возник Максим, гражданский муж Ковалевской.
Он уже собирался по привычке нежно поцеловать жену, но вдруг увидел на ее лице свежие порезы и удивленно приподнял брови. Софья с тоской представляла, как Максим сейчас начнет причитать и укорять ее за неосторожность. И действительно, муж взволнованно забегал по комнате.
— Соня, ну как это вообще могло случиться? Ты говоришь, вышла ночью в парк подышать свежим воздухом и поранилась веткой? Прости, но по-моему, это полная чушь! Ты совсем о себе не думаешь, не бережёшь своё здоровье! — горячился Максим.
Софья лишь обессилено махнула рукой, давая понять, что спорить и оправдываться нет никакого желания. Ей совсем не хотелось ввязываться в бесплодные препирательства, она просто хотела спать…
Максим продолжал недовольно ворчать, заботливо поправляя одеяло жены:
— Вот увидишь, эта твоя бесконечная работа рано или поздно окончательно погубит тебя, дорогая. Недаром я ведь еще перед свадьбой предупреждал, что женюсь на тебе только при условии, что ты оставишь свою должность профессора математики в Стокгольмском университете.
Твоя постоянная апатия, хроническая усталость, бледный изможденный вид и вот теперь еще эти загадочные порезы — лишнее тому подтверждение. Тебе давно пора хорошенько подумать о своем самочувствии и как следует отдохнуть.
Софья слушала мужа вполуха, постепенно погружаясь в забытье. В глубине души она понимала, что Максим в общем-то желает ей только добра. Он ведь тоже ученый, уважаемый профессор права, умный, прогрессивный и образованный человек.
Недаром его в свое время с треском выгнали из Московского университета за смелые вольнодумные речи перед студентами. Тогда Максим Максимович во всеуслышание заявил: «Господа, я должен читать вам курс о государственном праве, но если такового в России на данный момент попросту не существует, о чем же мне вам тогда рассказывать?»
Такой муж никогда бы не стал всерьез требовать от Софьи, чтобы она навсегда забросила свое любимое дело, ставшее главным смыслом ее жизни.
Но сон, как назло, никак не шел, хотя веки слипались от усталости, а всё тело буквально ныло и молило об отдыхе. Сердце стучало так громко и неистово, что, казалось, его грохот вот-вот разбудит весь дом. Тогда Софья постаралась отвлечься и принялась вспоминать что-нибудь приятное из своего детства, чтобы хоть немного успокоиться и наконец уснуть.

С ранних лет София поражала родителей своими необычайными способностями и разносторонними талантами. Пока старшая сестра Анна в свои пятнадцать увлеклась литературой и писала весьма недурные рассказы, младшая Соня тоже ни в чем не хотела ей уступать.
Восьмилетняя девочка уже вовсю сочиняла стихи, да к тому же умудрилась от корки до корки проштудировать толстенный университетский задачник по алгебре.
Будущий математический гений с утра до ночи ходила по дому с карандашом и блокнотиком, увлеченно что-то подсчитывала, да еще и с таким серьезным видом, что отец, глядя на нее, лишь недоуменно качал головой.
Одно дело — естественная детская любознательность, но совсем другое — забивать голову всякой недевичьей ерундой. Генерал Круковский очень надеялся, что со временем его младшая дочь обязательно образумится, повзрослеет и выбросит из головы все эти странные увлечения.
Но годы шли, а беспокойство Василия Васильевича о дальнейшей судьбе дочерей становилось все сильнее. К удивлению отца, Анна умудрилась опубликовать свою повесть в солидном литературном журнале, которым руководил сам Достоевский.
А Софья, которой едва исполнилось пятнадцать, тем временем взяла первые уроки высшей математики у знаменитого петербургского профессора Страннолюбского.
Однажды совсем юная девочка всего за несколько минут щелкнула как орешки пять сложнейших задач, после чего убеленный сединами математик встал и с нескрываемым восхищением отвесил своей необычной ученице низкий поклон.
Слушая за обеденным столом взахлеб рассказывающих о своих успехах дочерей, генерал Круковский мрачнел прямо на глазах. Ну откуда, скажите на милость, у его дочек, которым самой судьбой предначертано тихо сидеть дома, выйти замуж и нарожать кучу детей, вдруг взялась эта неуемная страсть к наукам?
Откуда такое неженское, прямо-таки мужское упорство в достижении своих целей? Василий Васильевич тяжело вздыхал: когда-то он так мечтал о сыновьях, а Господь словно в насмешку послал ему двух дочерей, каждая из которых с легкостью даст сто очков вперед любому мужчине. Куда уж там тягаться с ними младшему сыну Федору!

С тех пор, как в их петербургском доме на Васильевском острове стал частенько бывать модный писатель и известный вольнодумец Федор Михайлович Достоевский, Соню словно подменили.
Знаменитый гость с первого взгляда проникся симпатией к Анне, познакомившись с ней в редакции своего журнала, и теперь всячески оказывал ей знаки внимания при каждом удобном случае. Федор Михайлович при этом совершенно не замечал полных обожания взглядов, которые украдкой бросала на него влюбленная по уши девочка-подросток.
Софья пылала к Достоевскому такой страстью, что на какое-то время даже забросила свои любимые занятия математикой. Она вызнала, что писатель большой ценитель и знаток женской красоты, и с тех пор часами просиживала перед зеркалом, пытаясь уложить свои густые каштановые локоны в замысловатую взрослую прическу.
Достоевский обожал поговорить о философии, и Софья старательно штудировала труды Фомы Аквинского и Френсиса Бэкона. Писатель с восторгом отзывался об игре девушки на фортепиано, и она до боли в пальцах разучивала сложнейшие сонаты Бетховена.
Сердце Софьи чуть не разорвалось от невыносимой душевной муки, когда она случайно застала Федора Михайловича стоящим на коленях перед Анной. Достоевский трепетно просил руки старшей сестры, а та самым решительным образом ему отказала!
Будь на то воля Софьи, она, не раздумывая ни секунды, с радостью отдала бы жизнь, лишь бы в тот миг оказаться на месте Анны. После того злополучного объяснения с возлюбленной Достоевский навсегда перестал бывать в их доме, а Софья начала прямо на глазах чахнуть от неразделенной любви и тоски.
Она стремительно худела, сделалась молчаливой и замкнутой, словно разучилась улыбаться. Ей казалось, что теперь в ее жизни уже никогда не будет такого сильного и прекрасного чувства — первая любовь прошла стороной, не удостоив ее даже мимолетным взглядом.
Но жизнь неумолимо продолжалась, приходилось как-то выкарабкиваться из этой черной депрессии. Нужно перестать накручивать себя, отринуть все глупые девичьи мечтания и смириться с тем, что Федор Михайлович никогда не увидит в ней ту единственную женщину, которая будет предана ему всем сердцем.

…Софью Васильевну ненадолго сморил тяжелый, тревожный сон, но, открыв глаза, она почувствовала себя еще более усталой и разбитой, чем прежде. Ковалевская позвонила в колокольчик, вызывая горничную, и попросила принести ей легкий завтрак в кабинет.
Несколько чашек крепкого кофе, пара галет с маслом и медом, и туман в голове понемногу начал рассеиваться. Сейчас бы еще прогуляться по осеннему парку, надышаться свежим прохладным воздухом, полной грудью вдохнуть пьянящий аромат прелой опавшей листвы — для Ковалевской не было лекарства лучше.
Неспешно прохаживаясь по усыпанным желто-багряным ковром аллеям, Софья Васильевна размышляла о причудливых поворотах своей нелегкой судьбы. События ее жизни повторялись с завидным постоянством, словно кто-то неведомый нарочно выстраивал их как зеркальное отражение друг друга.
Когда-то любимый мужчина отверг ее, предпочтя другую — ее собственную сестру. Но не прошло и пары лет, как жених Анны, Владимир Онуфриевич Ковалевский, сам предложил руку и сердце Софье.
Суровый отец по-прежнему и слышать не хотел о том, чтобы талантливые дочери продолжили образование. Да кто бы мог подумать, что в прогрессивном девятнадцатом веке нравы окажутся настолько вольными, что девицам из приличных семейств начнут дозволять посещать университетские лекции наравне с мужчинами!
У Софьи с Анной давно уже только об этом все мысли и мечты. Но пока жив-здоров батюшка Василий Васильевич — не видать им студенческой скамьи как своих ушей.
Прекрасно сознавая, что переубедить упрямого отца не удастся никакими силами, сестры Корвин-Круковские в конце концов решились на отчаянный, но весьма рискованный шаг. Барышни задумали тайно обвенчаться фиктивным браком с людьми прогрессивных взглядов.
Такое «бумажное» замужество открывало перед ними поистине захватывающие перспективы: наконец-то можно будет поступить в заветный университет и всецело посвятить себя наукам!

Владимир Ковалевский, молодой подающий надежды ученый и горячий сторонник полноценного женского образования, казался им прямо-таки идеальной кандидатурой на роль подставного супруга.
К тому же в свое время Владимир Онуфриевич состоял в тайном революционном подполье и даже принимал участие в Польском восстании, а значит, лучше кого бы то ни было должен был понимать пылкое стремление сестер вырваться из-под родительской опеки.
Софья и Анна заранее решили, что замуж будут выходить строго по старшинству, но Владимир неожиданно для всех попросил руки младшей из сестер.
Поначалу Ковалевский уверял, что ему решительно все равно, на ком женится, лишь бы помочь угнетаемым царским режимом девушкам, но в итоге остановил свой выбор почему-то именно на Софье. Это спутало все их планы, однако Анна ничуть не держала зла ни на сестру, ни на ее нареченного — видит Бог, ее очередь тоже скоро придет.
И вот Софья стоит перед алтарем с красными от слез глазами, и сердце у нее замирает от страха. Ведь ей всего-то восемнадцать лет от роду, она только делает вид, что смела, решительна и крепка духом. На самом же деле одна мысль о предстоящей новой жизни повергает ее в дрожь.
Уж больно нескладно, на фальшивой ноте все началось: рядом совершенно чужой незнакомый мужчина, которому приходится во всеуслышание клясться в вечной любви и верности, кругом бледные скорбные лица родителей — вся эта церемония походила на дешевый балаган, над которым впору хохотать во все горло, если бы кому-то сейчас было до смеха.
Так называемую «первую брачную ночь» молодые Ковалевские провели в разных комнатах, даже не пытаясь создать видимость настоящих супругов. Софья лежала на краешке огромной постели и, натянув одеяло до самого подбородка, невидящим взглядом смотрела в непроглядную темноту. Разумеется, Владимир тоже не спал.
— Софья… Софья… Поверьте, вам совершенно не о чем беспокоиться. Я никогда в жизни не позволю себе обидеть вас или причинить малейшую боль, — вдруг тихо произнес он.
— Я знаю… И вовсе я не боюсь, — так же тихо ответила Софья и слабо улыбнулась, хотя в кромешной тьме Ковалевский, конечно, не мог этого увидеть.
На самом деле по-настоящему больно Софье уже успел сделать совсем другой мужчина. Владимир, несомненно, был добр, благороден и великодушен, но Софья не испытывала к нему ровным счетом никаких возвышенных чувств. Ну а раз так, то разве мог он хоть чем-то серьезно задеть ее или уязвить?

Вскоре после свадьбы Ковалевские перебрались в Германию, к вящей зависти всех своих друзей и знакомых.
В просвещенной Европе получить заветный университетский диплом оказалось гораздо проще, чем в России, где на студентку в юбке смотрели в лучшем случае с плохо скрываемым недоумением, а в худшем — с откровенной неприязнью и презрением.
В Гейдельберге, а затем и в Берлине Софья наконец-то смогла в полной мере проявить свой гениальный математический талант. Ее дни были наполнены лекциями, частными уроками у светил науки и горами тетрадей с исписанными убористым почерком листами.
Если бы не заботливый Владимир, который буквально выхаживал жену, следил, чтобы она нормально питалась и высыпалась, носился по аптекам в поисках нужных лекарств, когда у Софьи случались сердечные приступы, неизвестно, чем бы закончилась эта борьба одержимой наукой хрупкой женщины с собственным здоровьем.
Ковалевский пришивал к ее скромным платьям свежие кружевные воротнички и манжеты, ходил на рынок, до седьмого пота торговался со свирепыми немецкими фрау, покупая свежие овощи и мясо, вел приходно-расходные книги, чтобы оплачивать многочисленные счета…
Словом, он во всем опекал жену, словно преданная няня маленького беззащитного ребенка. И все это несмотря на то, что супруги по-прежнему жили как брат и сестра.
Софья всякий раз самым решительным образом пресекала любые робкие попытки Владимира перейти от платонических отношений к чему-то большему.
В конце концов дошло до того, что она и вовсе собиралась выставить мужа из дома, когда как-то к ним погостить из России приехала Анна. Старшая сестра, то ли от зависти, то ли по глупости, позволила себе весьма неуместную и язвительную шутку по поводу целомудренности и невинности отношений четы Ковалевских.
Софья вспыхнула от стыда и негодования, а позже, оставшись наедине с мужем, закатила ему безобразную сцену ревности, во всеуслышание обвинив в том, что по его милости их дружеский партнерский союз превратился в жалкий фарс и посмешище в глазах всего света.
Увы, Софье пришлось на собственном горьком опыте убедиться, как ей не хватает терпеливого и заботливого Владимира. Оставшись совсем одна в чужой стране, погрузившись в науку с головой, она не сразу заметила, что дни ее теперь тянутся гораздо более тоскливо и однообразно.
По утрам теперь некому было проводить ее до университета, некому встретить после изнурительных занятий, обнять, расспросить о том, как прошел день… В огромном равнодушном Берлине ни до кого, кроме разве что старого доброго профессора Вейерштрасса, не было ровным счетом никакого дела до одинокой русской студентки.

Софья провела в Германии без малого пять лет, и за это время успехи ее в математических науках оказались поистине феноменальными.
Берлинский университет, пораженный глубиной и незаурядностью ее ума, без долгих проволочек заочно присвоил госпоже Ковалевской звание доктора математики и философии, что по тем временам было неслыханной редкостью и привилегией для особы женского пола.
На родину, в Россию, Софья возвращалась окрыленная, гордая собой и своим блистательным триумфом.
Владимир встречал жену на перроне Николаевского вокзала в Петербурге. За годы разлуки он заметно сдал, постарел и осунулся. Наверное, сказались нелегкие годы подпольной революционной борьбы.
Внезапно Софью захлестнула такая волна нежности к этому располневшему, погрустневшему, но по-прежнему родному и близкому человеку, что она, не боясь косых взглядов и пересудов публики, подошла к Владимиру и крепко поцеловала его прямо в губы. Супруги смущенно отпрянули друг от друга и, потупив глаза, быстрым шагом направились к выходу с вокзала.
Ковалевские сняли небольшую недорогую квартирку на окраине Петербурга и поначалу буквально не вылезали из нее днями напролет. Им обоим хотелось побыть наедине, без помех узнать друг друга заново, вдоволь наговориться, смеясь и плача, вспоминая свою нелепую свадьбу и последовавшую за ней долгую разлуку.
Софья и Владимир были искренне благодарны судьбе, столь неожиданно подарившей им второй шанс если не на любовь, то хотя бы на самую настоящую крепкую дружбу. Увы, были у этой медали и обратная сторона — катастрофическая нехватка денег.
Софья, гениальная математическая голова, с легкостью оперировала в уме многозначными числами и сложнейшими алгебраическими формулами, но элементарно не умела сводить концы с концами даже в масштабах скромного семейного бюджета.
Несмотря на свой очевидный научный талант и востребованность, ни она сама, ни Владимир никак не могли устроиться на престижную и хорошо оплачиваемую работу в один из российских университетов.
От молодых ученых в приемных комиссиях попросту отмахивались, словно от назойливых мух. Да и можно ли было всерьез рассчитывать на профессорскую должность бывшему революционеру и странной девице с замашками синего чулка?
Приданое Софьи быстро таяло, словно кусок сахара в кипятке, долги росли как снежный ком. И тогда Владимир, дабы поправить пошатнувшееся материальное положение семьи, с головой ушел в коммерцию.
Он занялся строительным подрядом, не имея ни малейшего представления об этом бизнесе, и в скором времени жестоко поплатился за свою самонадеянность, запутавшись в бесконечных бумагах, накладных и счетах. Ковалевский и сам не заметил, как одолженные им под грабительские проценты деньги утекли сквозь пальцы, словно вода.

Софья, которая в это время была беременна первенцем, в финансовом крахе винила исключительно мужа. У молодой женщины началась затяжная депрессия: ей до смерти опротивел собственный располневший живот, по утрам ее мучил токсикоз, голова раскалывалась от приступов мигрени.
Но больше всего на свете Софья возненавидела Владимира, считая его никчемным неудачником, решившим окончательно пустить ее по миру. Все чаще в запале скандалов она осыпала мужа незаслуженными обидными оскорблениями, называя слабаком и ничтожеством, не способным содержать семью.
Апогеем их затяжного конфликта стал неожиданный отъезд Софьи в Москву на последних месяцах беременности. Родив там очаровательную кроху Соню, Ковалевская оставила дочурку на попечение многочисленной столичной родни, а сама укатила в Париж, всерьез намереваясь больше никогда не возвращаться ни к мужу, ни к ребенку.
Софья бежала из России в такой спешке, словно за ней гналась сама костлявая. На самом же деле она всего лишь пыталась скрыться от самой себя, от осознания того, что своим малодушным поступком предала самых близких и родных людей — мужа и новорожденную дочь.
Мысль о том, что она бросила Владимира на произвол судьбы в самый разгар его затяжной финансовой полосы неудач, жгла изнутри калёным железом.
Именно поэтому до вчерашнего дня строгая и неприступная Софья с головой бросилась в бурный омут парижской светской жизни: шумные рауты, званые ужины, модные салоны, литературные вечера, балы до утра — все что угодно, лишь бы поскорее забыть, не думать о собственной беспросветной тоске, раскаянии и стыде.
В один из таких вечеров, изрядно выпив шампанского для храбрости, Ковалевская сама не заметила, как оказалась в постели с привлекательным молодым польским математиком.
Новый поклонник составлял Софье компанию на всех великосветских раутах, скрашивая ее одиночество, пока из России не пришло страшное известие: доведенный до полного отчаяния безденежьем и долгами Владимир Ковалевский покончил с собой, открыв газовый вентиль в своем кабинете.
Перед уходом он аккуратно побрился, надел свой лучший костюм и начищенные до зеркального блеска штиблеты, словно собирался не на тот свет, а на официальный прием к министру…

Ровно через шесть месяцев после этого несчастья Софья Васильевна Ковалевская встретила свой сорок первый день рождения в Стокгольме. Она с трудом передвигалась по комнате, опираясь на трость, практически не вставала с постели.
Врачи лишь качали головами и сокрушенно разводили руками — сердечная болезнь быстро и неумолимо прогрессировала. Ковалевской было строжайше запрещено работать, волноваться и даже просто много разговаривать.
Время, которого ей всегда так катастрофически не хватало, теперь растянулось и потекло мучительно медленно, словно остывающая смола. Бездействие и одиночество сводили Софью с ума.
Несмотря на щедрые уговоры и увещевания близких, Ковалевская наотрез отказалась как-либо праздновать свои именины.
Какая из нее сейчас виновница торжества — бледная, исхудавшая донельзя женщина с ввалившимися щеками и потухшим взглядом, которой впору надевать на голову ночной чепец, а не модную шляпку с вуалью? Нет уж, вот поправится, встанет на ноги — тогда и закатят грандиозный пир на весь белый свет, но только не сейчас.
Увы, Софье Васильевне Ковалевской так и не суждено было отпраздновать свой следующий день рождения. Через четыре дня, 10 февраля 1891 года, она тихо скончалась во сне от остановки сердца.
На прикроватной тумбочке в изголовье стоял пышный букет белых лилий — любимых цветов Софьи, а в уже остывшей руке покойная сжимала потрепанного плюшевого медведя — недавний подарок любимой дочери Сони.
Говорят, что в последний вечер своей жизни Софья Васильевна полушутя-полусерьёзно сказала Максиму, которого позвала обсудить дальнейшую судьбу её дочери:
— Знаешь, милый, чем я обязательно займусь, когда немного приду в себя и соберусь с силами? Я во что бы то ни стало непременно должна написать повесть под названием «Когда не будет больше смерти». Как ты считаешь, у меня получится?..






